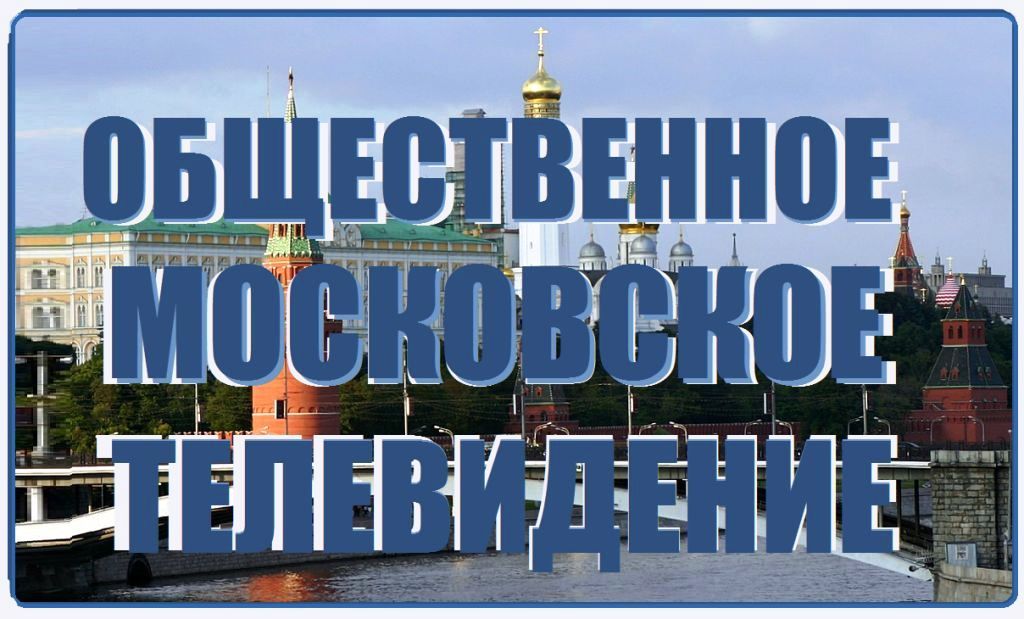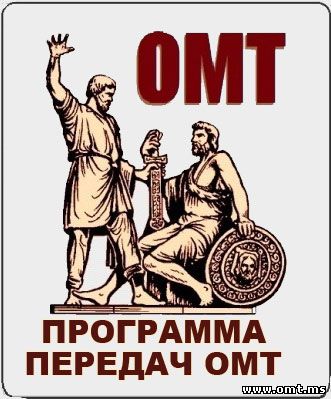Асия Хайретдтинова,
журналист, комментатор радиокомпании «Голос России».
ВСЕНАРОДНОЕ ГОРЕ И ВСЕНАРОДНОЕ ЛИКОВАНИЕ.
Я хочу, чтобы руки не стыли
В темноте.
Под бомбежкой…
Я очень хочу, чтобы дети
Дольше были детьми…
В. Н. Соколов.
Задаюсь вопросом, были ли мы, дети той самой войны, дольше детьми или повзрослели раньше срока от пережитого, увиденного, прочувствованного? Сразу следует сказать, как берегли нас от невзгод, горя и голода военной поры не только родители, но и много других взрослых людей, вынесших немыслимые тяготы на своих плечах. Думаю, что, конечно, благодаря этой заботе и защите оставались мы детьми, но особенными – наши детские сердца, наши глаза, наша память сохранили, по-своему ярко, отдельные эпизоды той грозовой поры.
Повсеместному приказу об эвакуации в первые же дни после 21 июня 1941 года моя мамочка не подчинилась. Помню долгие споры с папой, настаивавшего на отъезде всей нашей семьи в Алма-Ату, как было приказано у них на работе, мама говорила: «Как я поезду в такую даль с шестью детьми? Да пропадем мы без тебя! Уж если будем помирать, то все вместе здесь, в Москве! Нет, нет и нет!». А нам, несмышлёнышам эта поездка представлялась увлекательным и интересным путешествием: «Поедем в Алма-Ату! Поедем, мамочка!»
Так и остались мы в Москве, к которой война приближалась всё ближе и ближе. Жили мы на севере, близ Тимирязевской сельскохозяйственной академии, от которой до Химок, где уже шли бои, было всего несколько километров. По вечерам горизонт пылал красным пожарищем, слышалась глухая канонада. От бомбежек мы прятались в подполе сарая, где хранились овощи. При свете керосиновой лампы устраивались на деревянных лавках на всю ночь. Старшие сестры дежурили на крыше нашего двухэтажного дома, чтобы сохранить его от пожара, если самолет сбросит фугасную бомбу. А мама непрестанно бегала в дом, где у неё на керосинке готовился обед на следующий день. При этом она накрывалась от пуль или от осколков снарядов металлическим тазиком. Как я боялась, что пуля попадет в неё…
 Войну мы увидели близко в лицо: окна всех домов были заклеены крест-накрест белыми полосками бумаги, чтобы стекла не лопались от разрывов снарядов и бомб. Обязательной была светомаскировка: вечером окна непременно закрывались одеялами – специальный патруль проверял, чтобы даже щелочка света не проникала на улицу. Часто видела, как мимо нас проносили аэростаты отряды девушек, державших за стропы эти похожие на дирижабли надутые «колбаски», которые были защитниками неба Москвы от немецких самолетов, Войну мы увидели близко в лицо: окна всех домов были заклеены крест-накрест белыми полосками бумаги, чтобы стекла не лопались от разрывов снарядов и бомб. Обязательной была светомаскировка: вечером окна непременно закрывались одеялами – специальный патруль проверял, чтобы даже щелочка света не проникала на улицу. Часто видела, как мимо нас проносили аэростаты отряды девушек, державших за стропы эти похожие на дирижабли надутые «колбаски», которые были защитниками неба Москвы от немецких самолетов,
По нескольку раз в день из репродукторов доносилось: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!». А потом раздавались долгие звуки протяжной душераздирающей сирены. Эта сирена будто вошла во все мои поры, и до сих живет во мне этот сигнал тревоги, сигнал беды, сигнал войны… Позже при этих звуках мы уже бегали прятаться в школьное бомбоубежище, оборудованное в подвальном помещении, где были установлены сотни кроватей.
Однажды очень солнечным летним днем вся наша семья сидела за обедом, и вдруг раздался страшный вой – над самой нашей крышей пролетел немецкий самолет, а через мгновение – взрыв! Всего в ста метрах от нашего дома! Мы с папой пошли к месту взрыва и увидели огромную воронку - бомба упала около пруда. С годами вода из пруда перетекла в воронку, образовав ещё один бассейн. Сейчас отдыхающие в парке Дубки и не подозревают, что на дне одной части пруда лежит разорвавшаяся немецкая бомба. По-моему, знаю об этом только я одна.
Папе, который работал в пожарной части НИ Института животноводства на улице 8 Марта, было 48 лет, но он записался в Народное ополчение. Вот какое было настроение у простого народа – любой ценой защитить Москву… Как плакала мама – остаться вдовой с шестью детьми… По возрасту папу всё-таки не взяли в ополчение, но их институт, как и другие не эвакуированные предприятия Москвы, был на военном положении. Поэтому мама меня, девочку, которой не исполнилось ещё и шести лет, отправляла с обедом для папы. А от нашего дома до улицы 8 Марта надо было ехать с пересадкой на двух трамваях. Я с бидоном супа и с авоськой с котлетами и гарниром бесстрашно отправлялась в путь. Мне и в голову не приходило отказываться, А можно ли сейчас представить такое? Отпустить ребенка одного в такой довольно сложный путь! Да и маме в голову не приходило, что мне грозит какая-либо опасность, что кто-то меня обидит или сотворит ещё более страшное. А другого выхода не было – сестер срочно отправили в летние лагеря, подальше от Москвы, в которую вот-вот войдут немецкие войска…
А потом началась зима – морозы были о-ч-е-н-ь сильные, снега намело много…Что бы там ни говорили, но матушка-природа подоспела к битве под Москвой, заморозила немцев, которых не пощадил Дедушка Мороз. Помню хорошо эти морозы. Вот пример: однажды мама везла меня на санках из папиного института через Тимирязевский лес (вместо двух трамваев, которые зимой ходили нерегулярно, можно было домой добраться по прямой именно через этот лес). Дул сильный ветер, снег так сильно иголками колол мне лицо, что я плакала от боли, и мама через каждые сто метров останавливалась, чтобы покрепче укутать меня в шаль, оставляя открытым только нос.
Было в моем детском военном лексиконе слово «лимит». Что это значило? Было лимитировано электричество – его включали в ту зиму только часа на два. Дома было холодно очень. Дров у нас не оставалось, и мы топили печку чем придется, даже книгами. Было лимитировано электричество – его включали в ту зиму только часа на два. Дома было холодно очень. Дров у нас не оставалось, и мы топили печку чем придется, даже книгами.
Всё время хотелось есть. Даже отваривали картофельные очистки. Было постоянное чувство голода. Мама старалась, как могла – варила щи из крапивы и лебеды, добавляя горсточку перловки. Все продукты выдавались по карточкам – рабочим, иждевенческим, детским – от 400 до 250 граммов хлеба на человека. Подбирали каждую крошку. До сих пор ценю Хлеб. Это святое… Помню, как-то сказала маме: «С каким удовольствием я съела бы целую буханку черного хлеба – всю целиком и сразу!». Это была мечта. А сейчас? Кто из вас, читатели, изъявил бы такое желание?
К тому времени мои сестры - 15-летняя Надя и 12-летняя Рая, вопреки протестам мамы, бросили школу и устроились на работу на лесотарный завод, где сколачивали ящики. Приносили эти девочки по несколько планочек, которыми мы топили печку. И ещё: у обеих них были прекрасные волосы, которые пришлось состричь – пришла новая военная беда: вши, которых мама выводила керосином…
Благо, что мы жили на окраине Москвы, каким тогда был Тимирязевский район – почти сельская местность. У каждой семьи были огороды – как бы мы выжили без своей картошки, лука, морковки? Я, хоть и мала была, участвовала во всех «сельскохозяйственных работах» – прополка, полив, окучивание.
А вот настоящей бедой были для меня цыплята, которых надо было «пасти», чтобы их не утащили вороны. Представляете, целый день бегать за ними, отгонять от грядок, отпугивать ворон, и с завистью смотреть на соседских детей, убежавших в Дубки к пруду играть. К тому же, для кур надо было покупать комбикорм на Коптевском рынке, что было делом трудным, но в нем мне тоже поневоле приходилось участвовать (мама брала меня с собой, чтобы дали ещё «один вес»). А для этого надо была вставать часа в 4 утра, в зимнюю темень, долго ждать трамвай, а порой идти, вернее, брести, долго до рынка, чтобы одними из первых занять очередь и не услышать ужасное: «Всё, расходитесь – комбикорм закончился!».
Вообще-то роль детей для семьи была значительной: они были главными персонажами огромных очередей за подсолнечным маслом, мукой, сахаром… Никогда не забуду свои ладошки с номерами очереди на тот или иной продукт – надо было запомнить, где и какой номер, скажем, на рис, а где – на молоко. Когда очередь приближалась, со всех ног бежали домой, чтобы привести всю семью… Блюстители очередей писали эти номера на тыльной стороне ладони, сбоку, внутри (порой на ладони красовалась до 10 номеров) т.н. чернильным карандашом, который долго не смывался – неделями наши ладони были в фиолетовых пятнах…
1 сентября 1943 года я пошла в школу № 222, в которой проучилась 10 лет. А одеть нечего. Одежду и обувь можно было купить только по ордерам, которые выдавались в райисполкомах. Чудом папа получил ордер на пальто и обувь для меня. Пальто было красного цвета (оно служило мне много лет – мама каждый год надшивала рукава и подол черным сукном), а обуви кроме сапог большого размера (чуть не 41-й размер) на складе не нашлось. Вот в таких сапогах я проходила всю зиму, надевая несколько шерстяных носков. Вспомнить страшно…
В классах зимой тоже было холодно – чернила замерзали. Но зато каждый день каждой ученице (тогда было раздельное обучение) выдавали по бублику и по кусочку сахара. Это было настоящее наслаждение. Однажды меня подбили прогулять уроки и пойти в кино. О, как мне это не понравилось: нужно было прятаться, чтобы на трамвайной остановке меня не заметили соседи и не рассказали об этом родителям, нужно было прятать портфель от билетера, который мог спросить, а почему ты не в школе. И я решила раз и навсегда не прогуливать: в школе теплее, чем на улице и интереснее…
А как можно забыть салюты? Когда уже отогнали немцев от Москвы, когда из черных тарелок репродукторов зазвучали более радостные сводки Информбюро, а голоса дикторов стали объявлять об освобождении одного за другим наших городов. Сначала – Белгорода, а потом салюты озаряли Москву и нашу жизнь чуть ли не каждый день. Апофеозом стало 8 мая… Слово «капитуляция» было самым ходовым, а на следующий день всё затмило слово «ПОБЕДА!». В этот день мы с сестрами пешком отправились через всю ликующую Москву на Красную площадь… И видели на пути танцующих, поющих, плачущих от радости, сами включались в эти хороводы победы.
Я очень счастливый человек – хотя я видела всенародное горе, будучи ребенком, и знаю, чувствую, что такое всенародное ликование, частью которого я была уже 9-летней девочкой. Это сокровище помогает мне жить и сегодня…
*Опубликовано в сборнике «Последние свидетели Великой Отечественной». Москва, 2013, стр.262.
Расскажи друзьям:







|