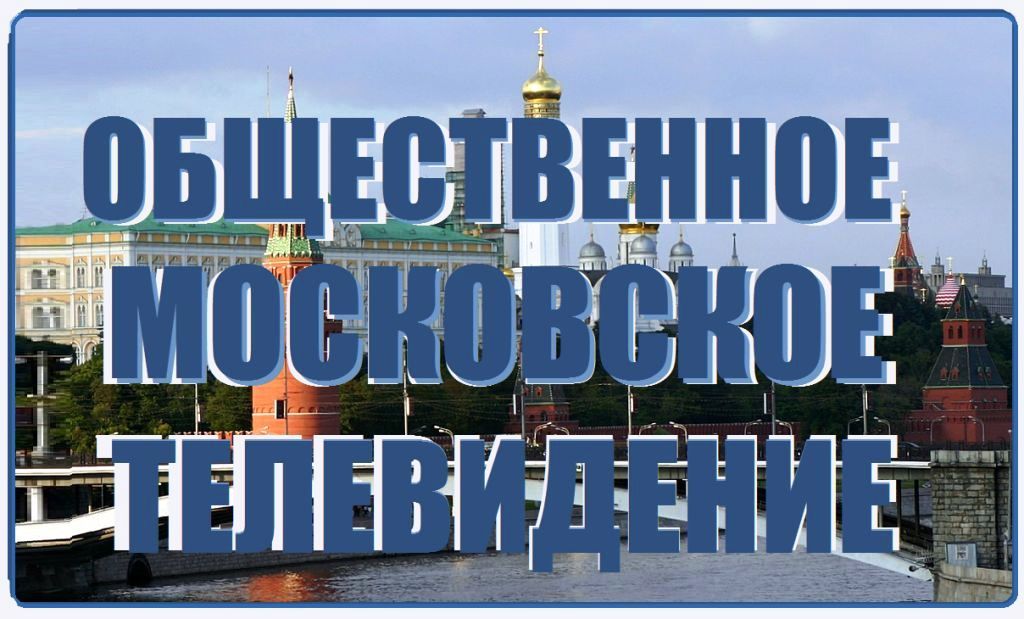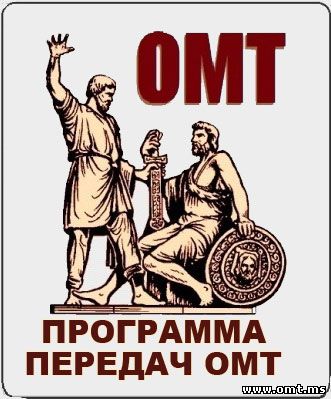Людмила Тобольская (Джоржанвилль).
В ЯСНЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛАННЫЙ.
(Журнальный вариант).
В лифте, когда он только что потянулся к ручке двери, чтобы выйти на своем этаже, новый приступ боли подступил к сердцу. Ручку он все-таки повернул и вышел из кабины, но боль так усилилась, что пришлось некоторое время постоять, привалившись к сетке ограждения. Он стоял и глядел на дверь своей квартиры, расстояние до которой мог сейчас преодолеть только мысленно. Чтобы не отвлекать силы даже на это, он закрыл глаза. Сразу стал внятен текст песенки, напеваемой где-то внизу тоненьким голоском… вероятно, прыгающего по ступеням…, вероятно, - мальчика: «Дождик, дождик, …пуще!… Дам… тебе… я гу – щи! Дож-дик, дож-дик…» Затем послышался неразборчивый женский оклик на далеком нижнем этаже, потом шарканье, кабина лифта вздрогнула за его спиной и осталась на месте. Пришлось снова браться за ручку и, возможно мягче ее поворачивая, захлопнуть дверь шахты. Кабина сразу с тихим скрежетом и постукиваньем ушла вниз, а он, пережидая боль, некоторое время, пока горела красная кнопка на панели, рассматривал в ее подсветке кончики своих пальцев, вдруг сделавшихся полупрозрачными, изнутри ровно и ало светящимися. Потом боль отступила, и он смог, наконец, отпереть квартиру.
Сейчас он боялся лишних движений и потому, расстегнув пуговицы плаща, просто свалил его с плеч на тумбу трюмо, обернувшись, вгляделся в свое лицо в зеркале – ничего нового: худой, бледный, под глазами мешки…
Он сразу же побрел в комнату и лег на кровать, неудобно, под углом свесив ноги, чтобы не задевать ботинками плед.
Он решил, что вызовет «скорую», если до ночи не удастся отлежаться.
Между приступами болезни сердца, которая обнаружилась у него недавно, проходило обычно много дней, так что он всякий раз заново удивлялся возникающей боли и еще не научился всегда иметь под рукой хотя бы валидол.
В комнате постепенно темнело.
Лежать нужно было очень тихо, стараться, чтобы грудь при вдохе не поднималась, при этом прикрыть глаза – так достигалось ощущение покоя, боль уходила… Но не уходил всегда возникавший во время приступа страх, и он знал, что сейчас для сердца это хуже всего…
Еще нужно было всеми силами отгонять воспоминание о только что пережитой встрече, когда молодая женщина, сидевшая к нему спиной в трамвае, знакомым движением ладони – сверкало тонкое серебряное колечко на указательном пальце! – приглаживает аккуратно зачесанные без пробора волосы, заплетенные в толстую косу… Она приглаживала их… и на коротком протяжении каждого ее движения, с каким-то горестным, беззвучно в нем раздававшимся стоном, он точно влетал в пространство другого времени, на четыре десятка лет уже отступившего, где сам он был другой, далекий и молодой, где глаза его видели по-иному, и по-иному, всем сердцем и телом, он чувствовал присутствие рядом с собой этой белокурой женщины с узкими ладонями.
Ну вот, опять - «этой женщины». Все-таки путается у него в голове. Сходство так сильно, что как-то даже забывается, что той белокурой женщине, сорок лет назад на его глазах – и по его вине! – застреленной гнавшимися за ними немцами и так и оставленной прямо на мосту им, убегавшим по кустам к лесу, туда, к своим…, той белокурой женщине сейчас…, через сорок лет, сейчас…
Звонок в дверь прервал мысли – длинный и сразу же несколько коротеньких. Такой звонок был совсем некстати, потому что это была бывшая его жена, вот уже второй год все ходившая к нему, чаще всего в подпитии, как говорится, выяснять отношения. Он решил не открывать и выдержал несколько ее попыток дозвониться. Потом звонки прекратились, и он снова погрузился в тишину.
И сразу, помимо своей воли, близко-близко, у самых глаз, увидел узкую ладонь как бы заслоняющую наклоненную шею сзади. Он увидел Ирину и себя, пришедших утром слишком рано, и теперь сидевших на бревнах возле реденького, из узких реечек забора, которым немцы отгородили «плац» размещенного здесь базара.
Он усилием воли попытался прогнать видение, и оно пропало, но тут же на его место пришло другое: взгляд Ирины, с выражением нескрываемой, какой-то детской зависти уставившейся на него, выменявшего у мужчины за два куска сала пару валенок, хоть и неизвестно сорок какого размера, но новых, крепких и, наверное, таких теплых зимой (дело происходило на исходе осени). И то, как начал он отдавать эти валенки ей, приводя ее в состояние изумления, а потом даже испуга, и сам уже ничего не понимал и только желал подольше смотреть в ее необыкновенные черты, неповторимые, как ему до сегодняшнего дня всегда, всегда казалось...
Впрочем, сегодня он так и не увидел лица сидевшей впереди него молодой женщины, она вышла через несколько остановок ни разу не повернувшись к нему хотя бы вполоборота.
Жена вернулась к его двери и позвонила опять, затем стало слышно, что открылась дверь соседей и она начала говорить с ними. У соседей на всякий случай хранились его ключи и жена, зная об этом, теперь просила эти ключи.
«Что за наглость!» - возмутился было он, но тут же понял, что ее настойчивость продиктована беспокойством, ведь из-под двери пробивался горевший в его прихожей свет.
Пришлось вставать и идти открывать.
Жена вошла как всегда с выражением выигранной атаки. Он и раньше удивлялся, откуда в ней столько энергии постоянно вести с ним моральные бои, не истощаясь. В любое время – после восьми часов, проведенных в цеху, после любой домашней работы – грандиозной уборки или стирки – в любое время она была свежа и готова к борьбе. В этих «сражениях» она последовательно доказывала ему сначала, что он недотепа, потом, что он должен быть добытчиком, затем, когда окончательно прошла любовь, утверждала свою автономию и добивалась развода и раздела. Получила все, что могла и, удачно для себя разменяв их общую большую квартиру, втиснула его в малюсенькую однокомнатную. Теперь она настойчиво доказывала ему, что он должен прописать к себе их незамужнюю дочь.
Едва взглянув в его лицо в полумраке коридора, она сразу поняла, что ему плохо, и из груди ее вырвался неопределенный, но полный иронии звук. Он никак не отреагировал, во всяком случае, внешне. Смертельно хотелось снова скорее принять горизонтальное положение и замереть, и он медленно, стараясь на ходу не подскакивать, и совсем по-стариковски шаркая ногами, пошел впереди нее обратно в комнату и поскорее лег. Жена остановилась в дверях и злорадно сказала только одно слово:
- Опять…
Он молчал. Она подошла и спросила:
- У врача был?
Он с трудом приподнял прикрывающую глаза ладонь и сделал ею неопределенный взмах. Жена прошла к столу и села.
- Вот так и сдохнешь по собственной глупости, - сказала она без всякого выражения, и продолжала, жестикулируя поставленной локтем на стол рукой:
- Не пойму я, нарочно что ли ты это делаешь или у тебя не все дома… Всю жизнь ведешь себя, как юродивый…
Он слегка повернул к ней голову, но ничего не сказал. Он знал, что ни какие увещания не могут помешать ей высказаться. И она говорила, а он, конечно, слушал, но не вникал в смысл ее слов. Вернее, смысл-то ему был известен с самого начала. Разговор был старый: о прописке дочери на его жилплощади, о том, что иначе «пропадет вдруг квартира»… Она была права, может быть, и он несколько раз с самим собой решал начать это дело и всякий раз наталкивался на два вопроса, которые неизбежно задавал себе и после которых отступал.
Первый: с помощью каких уловок, при советских-то официальных законах и нормах на метраж он сможет это дело провернуть, если учесть, что у дочери на пару с матерью уже и так огромная квартира. Становилось противно…
Ну а после того, как задавал себе второй вопрос, чем мотивировать – для себя лично – перепрописку дочери, отвечать на это ему становилось страшно, казалось, что после того, как он подготовится настолько оптимально к своей смерти, не останется ничего, как действительно умереть.
Жена все говорила, и он решил вдруг вставить фразу, вернее, высказать мысль, неожиданно пришедшую и развеселившую его:
- А вдруг я еще женюсь, пойдут дети?
Жена резко замолчала с открытым ртом.
- А что? – продолжал он. - Я ведь еще не старый, всего два года на пенсии… А? Вполне…
Жена заплакала.
- Нет, ты нарочно… Давай, давай, - говорила она, плача, – сдохнешь тогда еще быстрее…. И опять же, тогда все чужой бабе достанется!
Говоря это, она злобно зыркала на него покрасневшими глазами, стараясь подавить слезы.
Все начиналось сначала. Обычная ссора, которым он за тридцать лет брака потерял счет, и которые возникали и теперь, в каждое ее посещение.
Сейчас, лежа перед ней на кровати, он хотел только одного – вовсе не примирения, которое было невозможно, а ее ухода. Но она пришла осуществить свой план очередного, как она выражалась, «взятия на измор», и, судя по всему, скоро уходить не собиралась.
Он закрыл глаза и полежал молча. И вот, Ирина снова завела руку к затылку и пригладила волосы, слегка задержав руку на шее. Серебряное кольцо блеснуло ему в глаза. Он открыл их, не в силах выносить видение. Голос жены звучал монотонно и надрывно. Дождавшись паузы, он сказал, как можно более миролюбиво:
- Зачем мы ссоримся?…Слушай, - он помолчал, сознавая, что она может не поверить его дальнейшим словам, - давай посидим, поговорим…
Это было уж слишком, и жена действительно поглядела на него с оттенком недоверия. Но в это время в сердце его снова что-то остро повернулось так что он застонал, и жена тревожно приподнялась со стула:
- Может, тебе…
Он перебил:
- Нет, ничего не надо. Ты лучше вот что: - и он быстро-быстро договорил все до конца, – возьми деньги там, в кармане, в плаще и спустись вниз за вином. Ну, тебе лучше знать. Иди.
Он знал, что, при всем своем удивлении, устоять против такого предложения она не сможет. И действительно, еще раз недоверчиво оглянувшись на него, она заспешила в прихожую, по пути подняв с полу брошенный им плащ, потом застучала дверцей шкафа на кухне. Слышно было, как она шарила там и за плитой, ища пустые бутылки, но он опасался пить в последнее время из-за сердца, была там только одна бутылка из-под воды. Ею, видно, и звякнула она, затем вышла из кухни, задержалась у вешалки, одеваясь, и хлопнула входной дверью.
Теперь, до ее возвращения нужно было успеть… Сначала встать… В груди болело и сжимало… Было мгновение, когда он даже присел было обратно на кровать, но справился, поднялся и почти твердо вышел из комнаты. Сняв с крючка повешенный женой плащ и не решась надеть его, чтобы не поднимать рук, он зажал плащ подмышкой и вышел, не захлопнув двери, – он не хотел, чтобы жена снова надоедала соседям.
Трамвай стоял на остановке, и он успел сесть, а устроившись у окна, и глядя через него в сумрак вечера, с радостью подумал, что теперь о жене можно совсем не вспоминать…
Но и мысли об Ирине нужно было тоже отстранить, нужно было успокоиться, дать отдохнуть сердцу.
Совершенно ясно было, что женщина, встретившаяся ему сегодня, не могла быть Ириной, это было совпадение, величайшее сходство и больше ничего, сходство общего облика, не предполагавшее, возможно, сходства черт лица, ведь он его так и не увидел. Но может быть, именно поэтому полузабытое уже лицо самой Ирины теперь все время очень ясно возникало перед ним. Оказалось, что он помнит мелкие подробности – светлые кончики темных ресниц, слегка обветренные губы, которые она, видимо, привыкла облизывать на ветру. И все время воспоминанье о живой игре ее лица неодолимо перебивалось другим воспоминаньем: его и Иринин бег по осенней опушке вниз к мосту через заросшую речку, и длинная автоматная очередь за спиной, тихий вскрик и его возвращение к середине этого бревенчатого мостика, где, спокойно закрыв глаза, щекой на дощатой кромке лежала Ирина… И то, как, увидев частую диагональную строчку пулевых отверстий в ее пиджачке и пыльную струйку крови, крошечный ручеек, движущийся к нему по ложбинке в бревне, он вдруг перестал слышать продолжавшиеся выстрелы, почувствовал себя вырванным из обстановки собственной опасности. Видя, что случилось непоправимое, он с поразительным прозрением понял, что с гибелью этой женщины, которую он знал всего несколько часов, даже если он и останется дальше жить, настоящее его счастье все равно погибло…
И действительно, ни одна послевоенная встреча, ни даже женитьба, казалось бы, не без любви, ни рождение дочери – ничто уже не давало ему полноценной радости. Учеба его после войны так и не получилась, и он проработал всю жизнь комендантом студенческого общежития того самого института, поступить в который он так и не собрался.
Трамвай все ехал, дребезжа и по временам останавливаясь, а он все не мог решить, куда же ему деться на сегодня.
Наконец он решился, вышел у стадиона и завернул за угол. У Николая горел свет, но он подумал, что лучше все-таки позвонить с улицы, спроситься. Приятель ответил сонно.
- Разбудил тебя, Коль?
- Мм-м… - промычал Николай. – Кто это?
Он назвался.
- Ха! – выдохнул Николай. – Давно тебя не видел! Как живешь-можешь? Что не заходишь никогда?
- Да вот как раз захожу… Идти что ли?
- А ты где?… Давай-давай, поднимайся, вот чудак!
Подниматься без лифта было трудно. Когда третий этаж он преодолел, пришлось сесть на ступеньки, и он просидел здесь рядом с ведрами, на которых было написано «для пищевых отходов», видимо, слишком долго, потому что дверь Николая выше этажом раскрылась, и его окликнули.
- Здесь я, - отозвался он слабым голосом.
- Да ты что это? – Николай спустился и наклонился к нему. – Андрей!
Тот молча показал на сердце, и Николай осторожно помог ему подняться и медленно повел в квартиру.
- Ну дела… - приговаривал он по дороге, - что ж ты ходишь-то в таком состоянии?!
- О-о – таинственно поднимая палец, простонал Андрей, - тут такое дело…
В квартире у Николая он отдал хозяину плащ, сразу сел в глубокое мягкое кресло и прикрыл глаза рукой.
- Случилось что-нибудь? – участливо спросил Николай и почесал волосатую грудь через расстегнутый ворот тренировочного костюма.
- Да опять жена приходила… Сбежал!
- И зачем только ты ее пускаешь?! Моя вот ко мне – ни ного-ой.
Николай достал из серванта начатую бутылку и два стакана. – Давай-ка со свиданьицем и плюнь!
- Нельзя мне. – Андрей отвернулся.
- Да что там… Нельзя, нельзя… А вот мы коньячку, погоди… Сосуды расширит и – о кей! – и он потянулся на верхнюю полку серванта. Там стояла маленькая сувенирная бутылочка коньяку, он разлил ее поровну, и они выпили.
- Я, знаешь ли, Коля, домой не хочу, завтра поеду. Можно у тебя до завтра?
- А чего, конечно, зачем тебе домой-то?
Андрей улыбнулся, оглядел комнату Николая – лампочку без абажура, старый сервант, узкую, обшарпанную кровать:
- Незванный гость…знаешь?
- Да брось ты, Андрюха, я рад, честно. Последнее время сижу, как волк в берлоге. Нинка меня бросила…
- Это почему?
- А байдарками мы не увлекаемся, не подходим мы ей, - и Николай налил еще, теперь уже водки, но Андрей отрицательно замотал головой, и тот выпил один. Поговорили еще, так, ни о чем. Андрей устал и уже мучился в кресле, которое не казалось теперь ни мягким, ни удобным.
- Слушай, Коля, я лягу, пожалуй.
Николай придвинулся к нему ближе, обдавая свежим запахом водки, заглянул в глаза:
- Ну ты как? Оклемался?
- Вроде, ничего… У тебя найдется что на пол кинуть? Где-нибудь, где не дует…
- Зачем же на пол? Я на кресле раскладном лягу, а ты – вот, на кровати. Ты гость, ты больной, спорить не надо, Андрюха.
И довольно захмелевший Николай, принялся хлопотать с одеялами, подушками и простынями.
Андрей, едва дождавшись, когда его постель будет готова, быстро разделся и лег. Он слушал с закрытыми глазами, как возился, раскладывая кресло-кровать, Николай, потом приятель ойкнул и окликнул его:
- Слу-у-шай, Андрюха, я же тебя не накормил! Давай я чего-нибудь быстренько, яичницу с колбасой будешь?
- Ничего я не буду, спасибо, спи давай, не до еды мне.
Андрею показалось, что приятель обиделся, но сердце все болело и хотелось покоя и тишины. Он лежал тихо и молча, и Николай скоро погасил свет и тоже затих.
И в полусне Андрей снова увидел далекий сельский базарчик, утоптанную его земляную площадь, постепенно открывающуюся взору при сером рассвете. Тонкий утренний ветерок, забирающийся в карманы, за полы и воротник, снова скользнул по щеке и подернул слезами невыспавшиеся глаза. Отвернувшись от ветра, он снова увидел длинные темные со светлыми концами сомкнутые ресницы подремывающей женщины, что сидела на телеге у сарая. Она привалилась к дощатой стене и, казалось, старалась неподвижностью позы сохранить сонное тепло предутренней дремоты.
И снова стали обгонять друг друга не раз уже повторявшиеся в памяти события того дня. И снова, как тогда, он вздрагивал и замирал, увидев изумительный, темно-васильковый взгляд женщины, на его вопрос повернувшей лицо и разомкнувшей ресницы… Снова слушал ее растерянный, тихий и в то же время звучный голос, объяснявший ему, как она, студентка консерватории, будущая певица, приехав в эти места на отдых, оказалась отрезанной от дома начавшейся войной, одна, в оккупации. А он вынужден был говорить ей, что местный, из Двориков, - в его кармане лежал фальшивый аусвайс на имя Михаила Гончара - в Двориках все были Гончары…
И снова он, нарушая все инструкции, данные ему в партизанском центре, на свой страх и риск проводил весь день, не отходя от нее, на этом базаре, вплоть до прихода связного, и что уж совсем «не лезло ни в какие ворота», снова отдавал ей эти валенки, служившие ему и связному паролем, и отказывался брать деньги у ничего не понимавшей женщины… … Он просто заваливал себя и понимал это, но такое происходило с ним впервые в жизни. Вдруг все сфокусировалось на ее существовании, на их встрече. Потом, чтобы как-то смягчить ее недоуменье и прекратить эту дурацкую ситуацию, он все-таки взял у нее какую-то мелочь, сунул деньги, не глядя, в карман и начал торопливо прощаться, чувствуя одуряющее желание оставаться с ней еще и еще, и смотреть на нее и слушать ее плавную, как бы испуганно замирающую речь.
И снова солнце, теперь уже клоняющееся к закату, освещало и слабо пригревало на холодном уже ветру; и снова шел он по дороге с базара, стремясь, минуя посты, добраться до места удобного перехода к своим. Место это было вскоре за пропускным пунктом, перед деревней. Сюда он вышел прошедшей ночью с фальшивым аусвайсом в кармане, неся подмышкой завернутые в тряпицу два ломтя соленого свиного сала, выданные ему в отряде в качестве базарного товара Михаила Гончара, которые он потом отдал связному в обмен на парольные валенки.
До пропускного пункта оставалось еще с полчаса. Там дорога заворачивала за большой выступ леса и, свернув вместе с ней, можно было незаметно для постовых уйти по лесу вправо и вниз по старому проселку и мостику через ручей – и поминай, как звали!
И тут, на этой дороге, вблизи врагов и в двух шагах от возможной гибели, судьба предоставила ему еще несколько незабываемых мгновений. Он услышал оклик: «Михаил!», и возвращавшаяся на телеге с базара Ирина догнала его. Она засмеялась, когда он оглянулся, и указала на место рядом с собой.
Он не должен был ввязывать в свои дела Ирину. Садиться в телегу к ней было никак нельзя.
- Да нет, спасибо, - с трудом заставлял он себя отказываться. – Вы уже почти дома, а мне еще такой путь,… Не спасет все равно…
- Вы опять начинаете, странный человек, - Ирина поехала шагом, подстраиваясь под его пеший ход. Продолжать эту нелепую сцену в виду показавшегося уже пропускного пункта было невозможно. Он вспрыгнул на телегу и уселся рядом с ней.
Ирина совершенно беспечно подъехала к патрульным и протянула свой документ. Он сделал то же. Их пропустили молча, и телега двинулась дальше.
Иринина деревня была ближайшей, и именно за ней был тот поворот, за которым нужно было уходить в лес. Сергею оставалось побыть с Ириной всего несколько минут, но он твердо знал теперь, что еще вернется сюда, и чуть было не сказал ей об этом, но побоялся, что странностей в его поведении на сегодня и так было достаточно, и вместо этого попросил:
- Спойте мне что-нибудь на прощание, чтобы я представлял, какой у Вас голос.
- У меня колоратурное сопрано, - улыбнулась Ирина. – Знаете такой голос?
Он не знал.
- Такой высокий… Ну вот… Ария мадам Баттерфляй… Она ждет, что любимый ее вернется. В общем, слушайте.
Она пустила лошадь тихим шагом, легко вздохнула, и Андрей услышал высокий-высокий, нежный-нежный, грустный-грустный ее голос:
В я-я-я-я-сный день, жела-а-а-а-нный…
- Сто-о-о-й! – послышалось за их спинами. Ирина остановила лошадь. Их догонял человек с повязкой полицая на рукаве и с автоматом.
- В Озерки? – спросил он, запыхавшись.
- Я в Озерки, а он в Дворики, - хмуро ответила Ирина.
- Довезешь меня до комендатуры, - приказал полицай и разлегся в телеге, бросив рядом с собой автомат. Проехали немного в полном молчании. Затем вдруг полицай приподнялся на локте и взглянул в лицо Андрея.
- Постой-постой… Из Двориков, а чей же это ты? Я там, кажись, всех знаю, парень…
- И тогда Андрей ударил его прикладом автомата.
Он ощутил свой удар и услышал звук удара и сел в кровати, натужно переводя дыхание в темноте комнаты, пытаясь открыть глаза. Он пошевелил губами и всем нутром взмолился о прекращении мучительных видений, но только повалился на горячую и влажную подушку, как ивовые ветки захлестали по его лицу, когда он, выхватив у Ирины вожжи, начал разворачивать лошадь, поравнявшуюся с долгожданным проселком.
- Что же это Вы сразу не сказали, Господи! - бормотала Ирина, с трудом балансируя на кренящейся телеге.
Как и зачем мог он ей сразу все сказать там на базаре, при первой встрече!
Ивы хлестали по лицу, телега уже наполовину скрылась в придорожной зелени, когда до слуха их донесся ровный нарастающий гул и, обернувшись к дороге, они оба разом тихо вскрикнули: прямо на них выезжали от Озерков два немецких мотоциклиста.
Немцы видели въезжающих в лес, и это не могло не привлечь их внимания. И как бы в подтверждение этому на обоих мотоциклах одновременно вспыхнул ровный лобовой свет, неяркий в вечереющем воздухе.
- Скорей! – девушка стегнула лошадь, взметнувшуюся на дыбы, а Андрей перехватил вожжи и, крикнув Ирине неожиданно властно: «Быстро вниз, к реке!», сам тоже соскочил с телеги, на бегу выруливая лошадь так, чтобы телега перегородила проселок. Вбежав в лес, они кинулись к речке, перебегая темнеющими кустами в настигавшем их гуле мотоциклов, и уже ступили на первые доски мостика, когда сверху, от дороги услышали автоматную очередь…
И снова как тогда, сквозь сон, с ужасом предчувствуя всю муку повторного горя, он оглянулся на отставшую Ирину. Но он не увидел той странной удивленной полуулыбки и не услышал ее последнего вскрика. И тогда он понял, что повторения не будет, что мольба его услышана, потому что это Ирина, легко перебежав вперед, оглянулась на него, а он - он, а не она, - ощутив сначала небольшие толчки, а потом странную слабость во всем, ставшем ватным теле, споткнувшись, повалился на бревна мостика. Он упал и услышал над собой тихий голос и почувствовал не прикосновение, а только ее желание прикоснуться к нему, и последними усилиями сделав властным свой голос, произнес коротко:
- Нельзя! Торопись! Уходи! – и посмотрел вдоль мостика в направлении ее ухода.
Сил больше ни на что не хватило, и он теперь лежал, продолжая смотреть вперед и видя перед собой пыльные, все более темнеющие в вечернем воздухе бревна и доски настила, по которым вровень с его лицом пробежали ноги Ирины, и только слышал сначала отдающийся в бревнах, а потом все затихающий в песчаном береге ее торопливый бег.
Автоматы еще раза три дали очередь по кустам и замолкли, потом мотоциклетный звук раздался и растаял, удаляясь. А он лежал теперь охваченный болью, все разраставшейся в нем, и чувствовал, как уходит жизнь, понемногу и невозвратимо.
«Все правильно. Так вот – все правильно, наконец» удалось еще додумать ему, и тело его, судорожно замерло и стало постепенно холодеть на смятой полосатой простыне, а Николай, вставший рано утром и тихо, чтобы не разбудить приятеля, ходивший по комнате, собираясь на работу, не сразу это заметил.
*Людмила Тобольская – известнейшая писательница Русского Зарубежья, театральный, музыкальный и литературный критик и редактор; специалист по Русской и Европейской культуре, специалист по Восточной культуре и театру Кабуки; искусствовед и педагог; скрипач, художник и преподаватель истории и теории искусства, член Редакционного совета и постоянный автор Международного журнала «Б. В.», член Совета Соотечественников Общественного московского телевидения.
Расскажи друзьям:







|