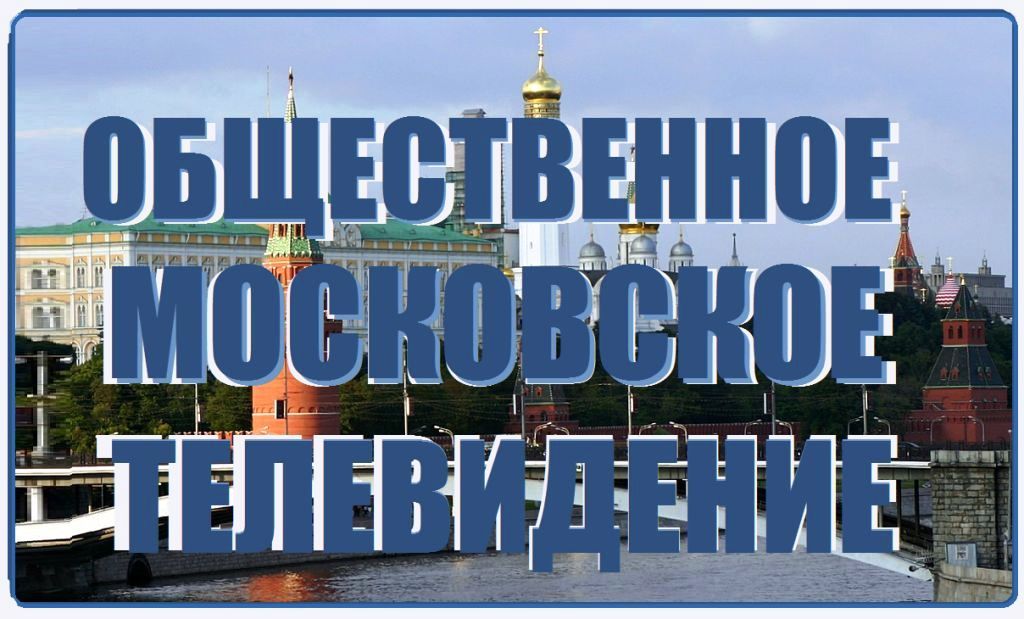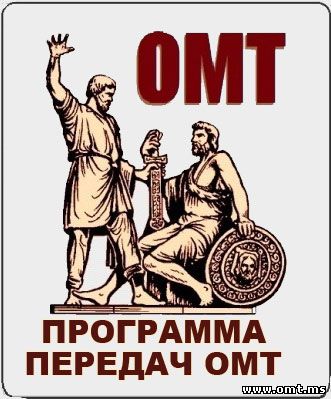Людмила Тобольская (Джорданвилль, США)
ГЛОТОК ВЕЧНОСТИ
ПОВЕСТЬ
(Продолжение)
Дочь ходила по квартире с сосредоточенным видом, перенося в руках предметы одежды, белье, какие–то пакеты, и Зоя догадалась, что это сборы. Чемодан, видимо, в столовой, дочь любила, готовясь в служебные поездки, помещать его на банкетку у большого панорамного окна и, укладывая вещи одну за другой, останавливаться время от времени у этого окна и в раздумье смотреть на шумящую внизу улицу. Зоя уже собралась переместиться в столовую, когда входная дверь щелкнула замком, распахнулась, и через прихожую в гостиную стремглав примчался Черри.
- Странно, хани, ведет себя собака сегодня! – с этой фразой зять проследовал в столовую к жене, а Черри лег на полу перед диваном, в непосредственной близости от того угла, где притулилась Зоя, уткнул нос в протянутые лапы и замер.
- Ну что странно, - говорила, выходя в гостиную дочь. – Чувствует, что мы уезжаем. Да и не нравится ему, когда мы сдаем его на время отъезда в это учреждение, не хочу называть – он знает это слово...
«Уезжаем». Значит, едут вместе. Значит, им уже сообщили. Но голоса спокойные, лица, можно сказать, безмятежные...»
Сели вполоборота друг к другу на диване рядом с Зоей. Дочь – спиной к матери.
- Кажется, ничего не забыла. В крайнем случае – купим там, там теперь, говорят, всё есть.
Неприхотливый зять машет рукой, ерунда мол. Отпивает воду из пластиковой бутылочки, с которой, как многие американцы, не расстается:
- Надеюсь, американские кредит-кардс там действуют? – с деловой энергичностью начинает зять. - Могут предстоять большие расходы при перевозке тела. Я всё узнал, беру с собой координаты здешних фирм...
- Нет-нет, не будем пока об этом. Если уж возникнет необходимость обсуждать эту проблему, – пусть решает русская сторона («О чем она? Русская сторона – это одна только Катя...»). Я, честно говоря, не уверена, что мама должна лежать в Сан-Франциско... – И, глядя в вопросительное лицо мужа:
- Мы можем переехать в другой штат, в Европу, наконец, ты же знаешь наши планы. Кстати сказать, там она могла бы покоится рядом с папой.
И снова в голосе - ни слезинки.
«Что это? Черствость молодых? Непонимание ими (всё еще!), что значит смерть? Да и жизнь, которая, они думают, принадлежит теперь им, а не старшему поколению, - навек?
А чего бы ты, собственно, хотела? А я…, я хотела бы слез, да, захлебов – «милая мамочка, бедная мамочка»... Утыкания заплаканным лицом в случайно попавшееся на вешалке в шкафу мое платье. Уже не говоря о портрете, который, хотя бы на первое время, перекочевал бы из моей комнаты на сервант в гостиной, хотя бы тот, еще сибирский мой портрет. Вот он».
Она поспешила в свою спальню и на стене у окна между другими памятными и дорогими фотографиями нашла портрет большеглазой гладко причесанной женщины, смотрящей на нее серьезно и грустно. « Сколько же мне здесь? Перед самым уходом на преподавательскую работу - балерины рано уходят на заслуженный отдых - видимо, меньше, чем дочери сейчас. Да, совсем была молодая пенсионерка».
А вот и дебют, одно из первых выступлений перед публикой. Размытый любительский снимок. Такой они уж не станут сохранять в семейном альбоме. И раньше видевшие его удивлялись: «А это что? Кто это? Ты? А это? А там кто?» И ничего не разобрав, потому что только ее память могла воскресить невидимое на нечетком изображении, сразу переходили к другим снимкам.
А между тем, – это единственный кадр, запечатлевший ее и Сашу. Рядом. В военном госпитале в Польше, в 1944 году.
Снимал фотокорреспондент фронтовой газеты, небритый, вечно спешащий. Щелкнул и побежал куда-то на очередное задание. А потом, появившись перед самым ее отъездом, всё извинялся за брак, и ей стоило большого труда выпросить хоть такой снимок на память. У Саши, рука и грудь которого снеговиково белеют в гипсе, на лице угадываются только глаза; были они темно-серые, блестевшие лихорадочно. А на исхудавшем и от этого казавшемся совсем юным (а, собственно, – что такое 22 года?) лице выглядели огромными.
Их-то она и увидела и выделила среди других глаз сразу, как только вышла на импровизированную сцену в торце большой палаты, вокруг которой сгрудились раненые и персонал. Сашину кровать тоже подкатили, и он смотрел, лёжа в подушках. Вальс Шопена, танго на модную тогда мелодию «Не уходи, тебя я умоляю...» под аккомпанемент пожилого аккордеониста, который всякий раз, попадая с ними на передовую, норовил остаться на фронте. Партнером Зои был ее ровесник, тоже только что окончивший их училище, Леша Карпов, след которого после войны затерялся... Была в их концертной бригаде дородная певица народных песен и старый иллюзионист, трюки которого неизменно изумляли и восхищали Зою, так же, как и окружающих зрителей.
Их выступления везде – в госпиталях и на фронте – принимали на ура. Так было и на этот раз. А Саша, не имея возможности участвовать в общих аплодисментах, всё повторял, стараясь придать голосу силу: «Браво, браво, прекрасно...», но получалось жалобно, с придыханием. У Зои сердце разрывалось от сострадания.
Возвращаться на «базу» надо было в тот же день, но к вечеру выяснилось, что дорога, по которой они приехали, простреливается какими-то прорвавшимися неприятельскими силами. Уверяли, что это ненадолго, и действительно, уже через два дня они благополучно отбыли и добрались. Но эти два дня! Незабываемые два дня.
Не имея возможности уехать, группа оказалась перед трудностями с устройством на ночевку. Шофер остался в кабине их грузовика. Иллюзиониста и музыканта положили в коридоре, певицу – в сестринскую. А Зое старшая сестра сказала с профессиональной невозмутимостью:
- Я Вас в палату к тяжелому положу. Другого места нет. Там вторая кровать уже свободна. Он тихий. Если умирать начнет, дежурную сестру позовете – людей-то у нас не хватает, знаете ли. Поможете, таким образом. Готово, тетя Настя? – обратилась она к проходившей по коридору санитарке. Та кивнула.
- Ну вот, в пятую палату идите.
И, видя замешательство Зои:
- Ничего, ничего, там Вам ширму поставили. Спокойной ночи.
Не без опаски заглянула Зоя в приоткрытую дверь с цифрой 5. Прямо против двери, слева от окна лежал тот самый загипсованный паренек. Справа была застелена пустая кровать и перед ней действительно стояли больничные парусиновые ширмы. Она робко вошла и встала у притолоки. Он некоторое время смотрел на нее своими огромными глазами, а потом она услышала шепот:
- Вы?
- Простите, - невольно тоже понижая голос, ответила Зоя. - Так вышло, что мне негде больше ночевать. Я не помешаю, я тихо, там за ширмой....
Он словно не слышал ее слов и повторил опять, но уже без вопросительной интонации:
- Вы...
- Простите, – повторила и Зоя.
- Какая яркая, правдоподобная галлюцинация! – он закрыл глаза, полежал так недолго. А когда открыл их – Зоя стояла на пару шагов ближе.
- Да нет же, - прошептала она. – Это правда, я.
- Правда... А почему Вы шепчете? Устали?
- Нет. Просто боюсь повредить Вам.
- Нет-нет!.. – и, помолчав, еще тише, почти неслышно. – Я так счастлив!
Дверь открылась и вошла медсестра с целой кипой бинтов и медикаментов на металлическом подносе.
- Вам лучше оставить нас ненадолго, – жестко отчеканила она. - Подготовка ко сну.
Зоя вышла и тихо встала у стенки скупо освещенного коридора. Постепенно в его тишине она стала различать доносящиеся из палат звуки: тихий разговор, шарканье и постукивание, раза два где-то вдалеке взвился и тут же прервался истерический вскрик.
- М-м-м…, – донеслось из Сашиной палаты. И следом - ровный, успокаивающий голос сестры. Слов было не разобрать. И потом еще несколько раз его голосом:
- М-м-м-м…, м-м-м-м-м-м...
Дверь распахнулась.
- Всё, - выдохнула сестра, не глядя на Зою, уходя по коридору и распространяя запах чего-то медицинского, и еще другого, неприятного и пугающего, исходящего от грязных повязок, которые она, вместе со снятыми перчатками, бросила в бак с крышкой, стоящий у стены. Зоя снова с опаской заглянула в палату. Саша лежал неподвижно с закрытыми глазами. И она на цыпочках пробралась к своей кровати и тихо легла, не раздеваясь, поверх одеяла. Так тихо они лежали на своих кроватях по обе стороны всё ещё не ночного, а только вечереющего окна.
И к этому скудному свету мало что добавлял свет ночника у кровати раненого. Зое стало страшно за его состояние, и она тихо-тихо отвернула одну секцию своей ширмы, чтобы видеть его лицо. Он, казалось, спал. И, глядя на него, она не заметила, как тоже заснула. Раза два ночью заходили сиделки, переворачивали раненого, долго возились у его кровати, чем-то постукивали о металл, один раз он при этом четко сказал:
- Планшет.
«Бредит», - решила Зоя, и попыталась рассмотреть, что происходит, но его загораживала фигура сестры. Потом сестра ушла, погасив ночник. Начинался рассвет, и на противоположной кровати можно было различить только что-то смутно белеющее. Она погрузилась в утреннюю дрёму, а когда проснулась уже на полном свету и взглянула на Сашу, он не спал. Лежал на боку и смотрел на нее.
- Что? – тревожно спросила Зоя.
- Вы красивая...
Зоя привыкла к восхищению мужчин, особенно здесь, на фронте, и научилась скромно уклоняться от излишних знаков внимания или даже останавливать их, но в сашиных словах было кое-что поважнее, чем комплимент Зое, - она почувствовала в них гораздо большую, чем вчера, силу, энергию жизни. Она так вдруг обрадовалась, что подошла к нему, нагнулась и как можно нежнее поцеловала его в мягкие губы. Он прикрыл глаза, а когда открыл их, внимательно посмотрел на Зою и спросил только:
- Это потому, что я умру?
- Ты не умрешь, - твердо возразила она. - Теперь ты не умрешь.
Пришедший с обходом доктор всё понял правильно:
- Около каждого посадить по красавице - сразу скажется на статистике выздоровления! - и весело оглянулся на сопровождающий персонал.
- А? Как думаете? – и потом, обращаясь к Зое. – А вы покормите нашего героя, вместо сестер. Поговорите – немного, – много ему пока нельзя.
- Молодец! – еще раз констатировал доктор, направляясь к двери, и вся группа вслед за ним покинула палату.
-Ура, – тихо сказала Зоя. Но Саша уже спал, улыбаясь во сне.
Так Зоя получила право быть с Сашей все дни до отъезда концертной бригады, т.е. до восстановления безопасности их обратного пути. А так как оба они не знали, сколько дней им предстоит быть вместе, каждая минута казалась драгоценной. Саша даже досадовал, что много времени у него уходит на сон, – он был так слаб, что и в течение дня непроизвольно засыпал по нескольку раз, при малейшем утомлении. Но сон был могущественным лекарством для него, оба это понимали.
А Зоя старалась не оставлять его даже когда он засыпал. Она штопала свои балетные туфельки, писала письма сестре, остававшейся в Москве, и родителям, кочующим по Европе в санитарном поезде, или тихо лежала на своей кровати, стараясь не пропустить момент сашиного пробуждения. Из разговоров друг с другом выяснилось много интересного. Оказалось, что он уроженец Крыма, тоже из семьи медиков, но о судьбе родителей, не успевших эвакуироваться и оказавшихся в оккупированной зоне, он не знал ничего. Сам он перед войной не успел окончить военное училище. И еще чуть больше года провел на Урале на какой-то переподготовке командного состава, рвался на фронт.
Потом прошел с боями до Польши. Рассказывал о себе очень скупо. Ну, лейтенант. Ну, награды. Об обстоятельствах ранения и контузии Зоя спрашивать избегала. Да и говорить ему действительно было не очень-то можно. И он больше слушал, с интересом расспрашивал о ее жизни. А ее жизнь пока что укладывалась в одну фразу. Даже в одно слово – балет. С десяти лет – Московское хореографическое училище. Жизнь там же, в интернате, и труд, труд, труд с утра до вечера. Начиная со средних классов – уже практика на большой сцене. Диплом перед самой войной. Теперь – работа в концертной бригаде. И хотя ее рассказ звучал обыденно, у него загорались глаза, он говорил, что искусство балета, да вообще искусство, для него – что-то недосягаемое, что-то фантастическое. А она – необыкновенная девушка, о какой он не мог даже мечтать.
- Вот ты сидишь рядом на стуле, говоришь со мной, а каждый твой жест – как музыка, и стоит тебе подняться, - даже походка у тебя какая-то необыкновенная. Ты не видишь себя, а я любуюсь.
Она счастливо смеялась, наклонялась и целовала его, а он смешно тянулся к ней, вытягивал из гипсового воротника тонкую шею.
- Зоя – по-гречески значит жизнь. Ко мне пришла жизнь...
Сейчас, в Сан-Франциско, стоя перед старой туманной фотографией, Зоя до мелочей помнила, казалось, каждую минуту тех счастливых дней. Их оказалось всего два.
Расставаясь, он продиктовал ей номер своей полевой почты (был уверен, что вернется в строй), страшно боялся, что она потеряет адрес в своих странствиях, и поэтому попросил написать его на нескольких листочках и положить в карманы, в сумку, за обложку паспорта. А ее московский адрес просто выучил наизусть.
Собака поскреблась в дверь спальни, поскулила, толкнула неплотно прикрытую створку, протиснулась внутрь и спокойно улеглась около Зои.
- Ну вот, теперь он пошел в комнату мамы! – ироничный, немного со смешком голос зятя.
- Оставь его, Билл, может, он чувствует...
«Он-то чувствует... А ты? А вы?»
Если бы можно было громко хлопнуть дверью, уходя из дома!...
Зоя устремилась к океану и устроилась там, на берегу почти у самого прибоя.
Вечерело. Гуляющие по пляжу начали, тут и там, натягивать на плечи ветровки, свитера, накидывать шали. А потом солнце устроило прощальное красочное закатное шоу, с пламенеющим пожаром светила, с заливкой неба бликами всех мыслимых оттенков красного - сначала теплых, потом холодеющих постепенно и неуловимо... С долгими криками и театральным пролетом чернеющих на этом фоне птиц.
Солнце переваливало за океан, и Зоя ясно представила великую водную выпуклость планеты. «Как океан объемлет шар земной...» Сейчас солнце уходило в Россию. Там, на Дальнем Востоке начинался новый день. Он пойдет постепенно по Сибири, через Урал и не скоро начнется в Москве. Многие годы, работая после войны в одном из сибирских театров оперы и балета, каждый день, если балетный класс начинался в 10 утра, в приоткрытые окна с площади из громкоговорителей доносился бой Кремлевских курантов: «Московское время 6 часов утра».
Сибирь... Город, где прошла, пожалуй, самая важная часть ее жизни, театр, каждую досточку сцены которого она помнила наизусть... И она проскользнула между бархатной кулисой и висящим задником, изображающим не то берег Днепра из «Русалки», не то Оку из последнего действия «Чародейки», а может, и что-нибудь третье, - прямо на ее открытое пространство. Театр в этот час был пуст. Зрительный зал с партером, амфитеатром и балконами уходил в темнеющую даль. Только где-то далеко по периметру этой темноты слабо светились красные овалы с надписью «выход» над невидимыми дверями.
Сцена обрывалась во мрак оркестровой ямы, где не просматривался ни один блик.
Запах краски, клея, пудры, пыли, канифоли, жженых локонов, чего-то еще, знакомого, но неуловимого. «Запах кулис», сведший с ума столько голов по ту и по другую сторону авансцены...
Когда она получила приглашение в этот театр, в такую даль от Москвы, от ее дома, в котором, впрочем, оставалась после смерти родителей только сестра Катя, Зоя сразу приняла приглашение. Ей было всё равно, где теперь работать и жить. Всё равно потому, что ушла надежда на встречу с Сашей, которая составляла главный стержень ее представления о будущем. До самого конца войны она писала ему на адрес его полевой почты, но не получила ответа.
И он сам не прислал ей ни одного письма на тот домашний адрес, который с таким старанием заучил наизусть. Она не хотела верить, но если даже предположить, что тогда в госпитале он так и не выздоровел, ей нужно было знать точно, что его нет в живых. И после войны несколько лет она еще искала его по архивным военным каналам. Но – его такое распространенное имя: Александр Александрович Кузнецов! И еще – она не знала точной даты его рождения, не знала названия военного училища, которое он закончил, не знала многого, что могло бы облегчить поиски. И она смирилась с очевидностью.
Нет и не будет. Но словно что-то вынули из сердца. И жизнь превратилась в проживание. Однако, на новом месте, в новом театре она немного воспрянула. Ее профессиональные дела шли хорошо. Скоро ей, способной девочке из кордебалета, «у воды», стали давать небольшие сольные партии: одну из невест в «Лебедином», турчанку в «Бахчисарайском фонтане», сольную середину в половецких плясках в «Князе Игоре».
Вот здесь, на этих досках пережила она успех, зрительские аплодисменты, здесь стояла на поклонах с охапками цветов, улыбающаяся, счастливая. Здесь пролила столько пота и слез на репетициях:
- Руки, руки, что с руками? Убери эти грабли! И спину держи-и-и..., раз! И прыжок!... Стоп-стоп-стоп – всё формально! И как тяжело, ты же лёгкая девочка! Соберись. Всё сначала!!! И музыку слушай... Готова?... Начали!
И так далее. И тому подобное. Порой бывало так трудно! Утром балетный класс, потом репетиция, вечером спектакль, а если она не занята, то частенько - репетиция тоже.
Но Аркадий! В ее буднях появился Аркадий! Этого скромного, неприметного русого и голубоглазого человека она поначалу просто не замечала. Он играл в оперном оркестре на гобое и по совместительству - на английском рожке.
Она познакомилась с ним на артистическом банкете по поводу премьеры «Руслана и Людмилы». Эта грандиозная опера Глинки, с целым хором басов, поющих партию говорящей богатырской Головы, со сказочными декорациями и чудесными превращениями длилась чуть ли ни до часу ночи, так что на банкете все были уже усталые и полусонные. Зое в этой опере досталась немного странная партия: она танцевала одну из порхающих дев, которые являются в грезах прекрасному Ратмиру.
На фоне черного бархатного задника, создающего иллюзию ночного южного неба с очень правдоподобно мерцающими звездами, девы эти витали вокруг героя и ускользали, играя и маня. Эффект полётного танца достигался совершенно невидимыми на этом фоне прикрепленными к их корсажам лонжами, с которыми работают под куполом цирковые артисты. В этой сцене звучала чудная мелодия, тоже какая-то бархатная, полная восточной неги и скрытой страсти. Зоя как раз напевала эту нравящуюся ей мелодию, подходя к фуршетному столу, где уже толпились участники спектакля, со многими из которых она, приехавшая недавно, еще не успела познакомиться. И тут от стола обернулся к ней молодой человек и с улыбкой спросил:
- Нравится?
- Что нравится? – не поняла она.
- Моё соло английского рожка. Вы поете...
Так они познакомились. А потом и подружились. Оказалось, что живет он в том же доме артистов оперы, что и Зоя, но в другом крыле, а значит - пользуется другой общей кухней, к тому же уходит в театр чуть позднее ее, так как оркестрантам не нужно гримироваться. Может быть, по всем этим причинам Зоя до сих пор и не заметила его.
Она явно нравилась ему, но он был очень деликатен и сдержан. Часто стал поджидать ее после спектакля, с улыбкой говорил:
- Разрешите проводить Вас. – И они, смеясь и разговаривая обо всем на свете, шли в один и тот же дом, который был совсем близко от их театра. Зоя расспрашивала:
- Вы здешний?
- О нет, нет...
- А откуда Вы приехали?
- Издалека. Эта длинная история, Зоенька...
- А где вы родились, Аркадий?
И он смеялся: «Ну, разве не ясно? В Аркадии!»
- Ну, нет, серьезно!
И он сказал: «В Питере». Зоя не поняла. «То есть, в Ленинграде, конечно», - пояснил он.
Потом она узнала, что он был на фронте. В штрафном батальоне, куда его отправили прямо из лагеря. Это ее удивило:
- Да что же такое Вы совершили? – не удержавшись, воскликнула она.
- А я, Зоенька, сын так называемого «белого офицера». Этого достаточно. Но об этом лучше не говорить. Я и не стал бы, но мне ничего не хочется от Вас скрывать.
Зоя испуганно молчала.
Позднее выяснилось, что после фронта, - где он отличился, - после ранений – в его теле до сих пор «гуляли» два осколка, один из которых много лет спустя и добил его, – было решено не возвращать его в лагерь, а отправить в ссылку. И так как был он прекрасный музыкант, местом ссылки определили в Сибири тот самый театр, где он теперь играл в оркестре. Оказалось, что людей с подобной судьбой было в театре несколько. Ни о чем подобном Зоя даже не подозревала, живя в своем, ограниченном балетом, музыкой и собственными переживаниями мире.
Аркадий не назвал имена ссыльных, да Зоя и не спрашивала, но теперь часто на репетициях и в кулуарах всматривалась в лица коллег. Этот? А может быть вот этот или та? Но по их поведению ничего не было заметно. Да и глядя на Аркадия, нельзя было и предположить подневольную подоплеку его пребывания здесь. Он любил свою работу, любил музыку. Еще у него было множество книг, своего рода маленькая библиотека – это было его второе пристрастие. Было и третье – рыбалка, и в выходные дни он иногда отправлялся куда-то за город с такими же заядлыми рыбаками, людьми совсем не из их театра.
Улов порой бывал удачным, и тогда Аркадий варил ароматную уху, жарил рыбу и даже вялил ее, развешивая на веревочке и укрывая марлей. Получалось совсем неплохо и, когда он угощал всем этим Зою, она старалась в ответ испечь что-нибудь вкусненькое. Аркадий оказался ужасным сладкоежкой, что Зою умиляло.
Однажды он попросил устроить совместный обед с его рыбными тефтелями под соусом и с зоиными пирожками. Всё это было принесено в зоину комнату с добавлением красивого букета полевых цветов, привезенных Аркадием с рыбалки, и узкой бутылки какого-то, кажется, крымского, вина. На этом обеде Аркадий и сделал ей предложение, которое она с радостью приняла.
(Продолжение следует).
Расскажи друзьям:







|